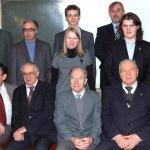Евгений Морозов: Напряжение воли как основа прочности
22 февраля 2025 года от нас ушел выдающийся ученый, исследователь механики разрушения, человек, на труды которого во многом опираются самые важные и прочные вещи в нашей стране – доктор технических наук, профессор кафедры № 16 «Физики прочности» НИЯУ МИФИ Евгений Михайлович Морозов. Публикуем воспоминания коллег о нем.

Рассказывает член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН Владимир Викторович Иванов:
«В МИФИ я поступил в 1972 году, был зачислен в группу Э1-08. С Евгением Михайловичем познакомился на третьем курсе, когда он читал нам лекции: сначала по теории упругости, а позже – по механике разрушения. Механика разрушений тогда была бурно развивающейся наукой, по ней и учебников-то не было, да и сейчас, кажется, нет. Была только книга профессора Черепанова «Механика хрупкого разрушения» и книга Морозова и Партона «Механика упруго-пластического разрушения» – вещь абсолютно мирового масштаба!
Основной специальностью Евгения Михайловича была теоретическая механика разрушений, теория упругости, а экспериментальной механикой разрушения на кафедре занималась группа (в которой впоследствии работал и я) под руководством Виктора Михайловича Маркочева. Они работали в паре и были очень большими друзьями. Надо сказать, что кафедра физики прочности МИФИ была уникальной – единственной в СССР: здесь готовили специалистов именно по физике прочности, а не по теории упругости или сопромату в классическом понимании. В основе науки о прочности (и разрушении) лежат фундаментальные физические теории (включая ядерную физику и физику твердого тела) и механика (прежде всего, механика сплошной среды).
В 70-80-е годы на кафедре работал дружный коллектив. Все преподаватели были действующими учеными: руководили научными темами, писали статьи и монографии, жизнь там кипела. Нам, студентам, сразу объясняли, что «прочность – это главное во всех конструкциях, и вы за нее будете отвечать, поэтому будьте любезны, учитесь как следует». Относились к нам очень по-доброму, но на экзаменах спуску не давали. Так буквально вбивалось чувство ответственности. И жизнь показала, что это было оправданно. В отличие от других групп факультета специализация на кафедре №16 начиналась уже со второго курса. Сопромат и специальные разделы теоретической физики нам читали отдельно, этого требовала специфика кафедры.
Вопросы прочности и разрушения в классическом виде наиболее системно исследовались в авиации и космонавтике. Поэтому многие преподаватели пришли к нам из этих сфер, в том числе и Евгений Михайлович – он пришел из МАИ. На кафедре было два основных направления работ – атомная энергетика и авиация, ее заказчиками были ЦАГИ, ВИАМ, ВИЛС, НИКИЭТ, Курчатовский институт, а также ОКБ «Гидропресс». Кроме того, мы работали и с другими отраслями: ЦНИИ строительства магистральных трубопроводов (Евгений Михайлович был, кстати, членом Экспертного совета по безопасности морских подводных трубопроводов), ЦНИИ МПС и др.
Но всё это мы узнали позже, когда уже работали на кафедре. А пока были студентами и слушали лекции Морозова – они были очень яркими, запоминающимися. Читал он очень понятно, мог на пальцах, что называется, объяснить сложнейшие вещи. По его конспектам готовиться было – одно удовольствие…
Я окончил МИФИ и был оставлен на кафедре инженером, мы стали общаться с Евгением Михайловичем уже ближе. Как я уже сказал, кафедра вела очень большой объем НИРов по теоретической механике разрушений и методу конечных элементов применительно к расчетам на прочность. Но Морозов с Маркочевым пошли дальше – они научились считать и трещины! А это очень сложно, потому что линейные законы в трещинах не работают, там нельзя построить гладкую кривую. Маркочев занимался физическими аспектами, в том числе с позиций теории катастроф и синергетики, а Морозов – вычислительными методами.
Евгений Михайлович создал научную школу, одним из ярких представителей которой является доктор технических наук, профессор, сотрудник ИМАШ РАН и главный разработчик программного комплекса для решения задач механики деформируемого твердого тела «Растр-сигма» Геннадий Петрович Никишков. Об уровне подготовки выпускников кафедры в то время говорит и тот факт, что из ее «шинели» вышли два члена-корреспондента РАН: директор Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН Михаил Иванович Алымов и ваш покорный слуга.
Что главное сделал Евгений Михайлович, если коротко? Методики Морозова легли в основу расчетов обеспечения безопасности наших ядерных энергетических установок и авиационной техники. Евгений Михайлович в основном занимался общей теорией разрушения, и что поразительно, его самого возрастные «разрушения» практически не коснулись. Последний раз мы с ним виделись на большой встрече выпускников МИФИ летом прошлого года – меня поразило, что он, во-первых, почти не изменился, а во-вторых, помнил нас всех по именам, как будто мы только недавно слушали в аудитории его лекции. А ведь мы закончили институт почти 50 лет назад!
При всех своих заслугах и регалиях Евгений Михайлович всегда был скромным, очень добрым и интеллигентным человеком. Он работал до последнего дня. И еще одно воспоминание – он обладал очень тонким чувством юмора. Помню, как он однажды сказал нам, что работает 25 часов в сутки и на вопрос «как вам это удается?» спокойно ответил: «Очень просто, я встаю на два часа раньше».
Вспоминает Андрей Вениаминович Осинцев, доцент, заведующий кафедрой № 16 «Физика прочности» НИЯУ МИФИ:
«Евгений Михайлович был человеком большой судьбы. Он учился в МАИ у легендарного Николая Ильича Камова, конструктора вертолетов, и тема диплома Морозова звучала так: «Вертолет для взятия геологических проб». Он вообще был фантазер в хорошем смысле этого слова. Наверно, это качество, а также то, что отец его был металлургом, и определили его судьбу и область научных интересов – вопросы остаточных напряжений, механических характеристик, механизмы разрушения.
Евгений Михайлович пришел на кафедру аспирантом, Яков Борисович Фридман (тогдашний заведующий кафедрой) тут же поручил ему читать лекции и вообще нагрузил по полной программе. Фридман же придумал ему тему для кандидатской диссертации – «Напряженное состояние материала», Морозов успешно защитился и остался на кафедре.
По науке мы с ним пересекались мало, с Евгением Михайловичем у нас была только одна общая статья – в основном я общался с ним не как с ученым, а как с человеком. И вот что хотелось бы отметить о нем, как о человеке. В 80-е годы прошлого века наша кафедра переживала расцвет, здесь царила живая научная работа, всё «гудело», работало с десяток лабораторий и примерно 50-60 человек сотрудников. Естественно, все они были люди разные, со своим характерами и интересами, бывали на кафедре и стычки. Так вот, Евгений Михайлович очень хорошо умел снимать напряжение в человеческом «материале», не давал дойти ему до стадии «разрушения», сглаживал все острые углы в отношениях между людьми. Он был совершенно уникальный человек в этом смысле, человек широкой души, имевший ко всем на кафедре «открытый доступ». Всегда мог посоветовать что-то по-доброму, без нажима. При этом всегда оставался скромным, знаний своих никогда не выпячивал.
А объем знаний у него был колоссальный – лекции он всегда читал без бумажки, из головы. Они были чудесные: и интересные, и с моментами расслабления – он любил пошутить на разные темы, близкие студентам, в том числе на темы любви и дружбы. Он легко импровизировал, причем как в ораторском, так и в организаторском плане: как-то на кафедре был «аншлаг», студентам не хватило аудиторий, Морозов привел их в преподавательскую и стал рисовать диаграммы мелом на огромном сейфе, заменившем таким образом доску.
Помню, что одна группа студентов принесла справку из деканата, что они пропустили 16 (!) недель занятий по общему сопромату по… уважительной причине. Я такого в жизни не видел. Создали по этой группе комиссию, Евгения Михайловича назначили ее председателем. Он со всеми спокойно разобрался – спокойствие вообще было его отличительной чертой – всем поставил уж не знаю какие отметки, все они благополучно закончили вуз. Но, конечно, тех, кто учился уже на самой кафедре, наши преподаватели «драли» как надо, спуску не давали.
Воспитал Евгений Михайлович множество аспирантов – никогда у Морозова с ними проблем не было. Его студенты всегда приходили на все его юбилеи, а на 90-летие они подарили Евгению Михайловичу велосипед. Не в качестве шутки, а для дела: Морозов был большой любитель «походов выходного дня». В советское время это был очень популярный формат отдыха: в газете «Неделя» печатались объявления о пеших и велосипедных походах по Подмосковью по заданному маршруту, скажем, от станции Тучково до Опалихи. Дождь, снег – не имело значения, он ходил в эти походы каждые выходные. В молодости у него было очень слабое здоровье, и он решил таким волевым способом целенаправленно его укреплять – ходить, ходить, ходить…. Благодаря чему, наверно, и дожил в ясном уме и хорошей физической форме до 97 лет. Евгений Михайлович был основой «прочности» кафедры, мы на него равнялись. Без преувеличения можно сказать, что он был нашим маяком».
Евгений Михайлович Морозов опубликовал 285 статей в журналах, среди которых 10 в Докладах АН СССР и РАН РФ, создал 7 учебных пособий, написал 13 монографий (две из них переведены на английский язык), занимался титульным редактированием переводных изданий. Вместе с Яковом Борисовичем Фридманом в 1960-е годы он на базе кафедры сопротивления материалов организовал в МИФИ кафедру физики прочности, которая стала выпускать специалистов по определению механических свойств материалов и их использованию при расчете несущей способности конструкционных элементов. При этом впервые в стране в учебный план был введен курс «Механика разрушения», который Морозов читал с самого начала и до последних дней жизни – читал очно, отказываясь от онлайн-лекций.
С 1976 по 1988 год Морозов возглавлял ГЭК на мехмате МГУ, в те же годы председательствовал на ежемесячном семинаре «Проблемы разрушения металлов» при Московском доме научно-технической пропаганды им. Дзержинского. В середине 1970-х годов у него зародилась идея создания Комиссии по механике разрушения для разработки методических рекомендаций по экспериментальному определению характеристик трещинностойкости – комиссия была создана и проработала 15 лет.
Тогда же он был членом методической комиссии по механике разрушения при НТС Госстандарта СССР, редактором раздела реферативного журнала «Механика», членом Межгосударственного координационного совета по физике прочности и пластичности материалов (с 1995 г.). В 1983 году Морозов был удостоен премии Совета министров СССР за разработку и внедрение научных основ расчета и повышения прочности энергооборудования по критериям трещинностойкости.
Его книги стали вехами в истории отечественной механики разрушения. Результаты научной работы Евгения Михайловича Морозова нашли отражение в ГОСТах и отраслевых стандартах по прочности и долговечности энергооборудования и трубопроводов АЭС и ТЭС. Он и сам стал человеческим и научным «ГОСТом» для своих коллег и учеников.